

В конце XX века Россия вновь оказалась на тернистом пути страдания. Как писал Г. П. Федотов, «мы — пусть пигмеи — вознесены на высоту, от которой дух захватывает. Может быть, это высота креста, на который поднята Россия...» Государство буквально раздирается внутренними и внешними вестернизаторами, предпринимаются настойчивые попытки вырвать этносы страны из единого пространственно-временного континуума.

Мордовия, являясь частицей великой России, испытывает те же боли, что и вся страна. В 1991 году была образована Саранская и Мордовская епархия РПЦ, что многими было воспринято как явление благотворное. Однако в том же 1991 году был официально зарегестрирован первый приход Мокшеэрзянской евангельской лютеранской церкви, которая в региональном отношении курировалась Ингермаландскои церковью (Эстония). Одновременно стали раздаваться призывы отказаться от Православия и вернуться к языческим верованиям. В отдельных мордовских селах прошли озксы (моления), сопровождаемые жертвоприношениями языческим богам. Традиционными они стали в селе Ташто Кшу-манця (Старое Качаево) Большеигнатовского района. Впервые на территории Мордовии стали действовать тоталитарные секты (международное общество сознания Кришны, «Белое братство»). В этих условиях чрезвычайно остро встал вопрос об истоках Православия в крае. Невольно вспоминаются слова протоиерея Георгия Флоровского о необходимости «пересматривать и припоминать все уроки и заветы прошлого, иногда жестокие, иногда вдохновительные».
Кроме того, часть мордовской национальной интеллигенции, идя по пути новой идеологической конъюнктуры и используя возрождение Православия, обратилась к созданию произведений на темы истории церкви, жизни и деятельности православных святых и т. п. Но при этом она, как правило, не поняла сути поднимаемых тем и обнаружила полное незнание церковной истории, истории монашества, да и истории России в целом.
Мордовский этнос был втянут в орбиту Российского государства в период, когда религия являлась одним из основополагающих национально-государственных критериев, а христианизация - государственной политикой. Центральная власть создала четкую законодательную основу деятельности православной церкви и положения других верований. Российское законодательство предусматривало признание первенства и господства православия. Вместе с тем, признавался принцип свободы вероисповедания для представителей иных конфессий, в том числе язычников. Законодательством были определены порядок присоединения к гоподствующей церкви, система льгот для новокрещенных, меры пресечения «отпадения» от православия. Принципами присоединения иноверцев официально были признаны «увещевания», «кротость», «добрые примеры», а не насилие. Обязанности по привлечению к православной церкви в основном лежали на приходских священниках, которые «в особо нужных случаях» должны были «входить в соглашение с гражданским начальством».
Принятие мордвой православия явилось своеобразным идеологическим обоснованием и реализацией ее вхождения в состав Российского государства. При посредстве религии мордва окончательно вошла в систему, стягивающую этносы в рамках единого пространственно-временного континуума, степень ее комфортности существенно повысился. Кроме того, этнос приобщился к великой традиции, которая отобрала среди всего многообразия ценностей приоритетные и сообщила им трансцедентный характер - вывела их из сферы критики и тем самым предупредила релятивизацию ценностей. Это было весьма важно в условиях серьезного кризиса и трансформации традиционного языческого мировоззрения мордвы.

Однако прежде чем говорить о Православии на мордовской почве, необходимо уяснить особенности языческого мироощущения, основу которого составили мифы. Тем более, что оно претерпело существенную эволюцию. На ранних стадиях развития мифы чаще всего были кратки, примитивны, элементарны по содержанию. По всей видимости, преобладали этимологические мифы — короткие рассказы, содержавшие порой примитивное объяснение происхождения того или иного животного или растения, черт рельефа и т. п. Примером могут служить произведения фольклора, содержавшие мифологические сюжеты о медведе, собаке, волке, лисе, зайце, березе, яблоне, дубе и т. п. Позднее, как считал А. Ф. Лосев, «в связи с эволюцией общинно-родовой формации в общинах стала возникать прослойка людей более организованных, более самостоятельных и более свободных от непосредственного производительного труда. Появилась своеобразная общинно-родовая аристократия, получившая для себя уже некоторого рода возможность и время также и для развития отдельных личностей, которые до тех пор были всецело подчинены общине и потому даже и не понимались как самостоятельные личности. Но с ростом самостоятельной личности росло также и самостоятельное мышление». Постепенно стали создаваться более сложные мифы, в которых переплелись разные по происхождению мифологические мотивы и образы, образуются развернутые повествования, формируются циклы. Примером могут служить трансформация идеи демиурга в мордовском язычестве, мифы о Пургине-пазе — боге грома и т. д. На этой стадии и произошло первое соприкосновение мордовского народа с христианством.
Распространение Православия в мордовском крае было длительным процессом. Элементы христианского культа стали проникать в регион накануне монгольского нашествия. Началом XIII века датируются находки крестов-энколпионов в отдельных мордовских памятниках (клад близ села Губино, Муранский могильник и т. п.). По всей видимости, мордва воспринимала крест как оберег, имеющий магическую защитную силу. Наконец, в XIII веке был написан текст, имеющий в истории мордовского края значение, сопоставимое со значением Легенды о путешествии апостола Андрея в истории Руси. Он принадлежит венгерскому монаху-миссионеру Юлиану, которого порой называют «Колумбом средневековья». Характеризуя «царство мордванов», он писал: «Узнав от своих пророков, что им предстоит стать христианами, они послали к князю великой Ландемерии (это соседняя с ними русская страна), чтобы он послал к ним священников окрестить их. Тот ответил: «Не мне надлежит это делать, а папе римскому. Ведь близко время, когда все мы должны принять веру римской церкви и подчиниться ее власти».
В свое время нами высказывались серьезные сомнения в истинности этого сообщения, поскольку слова русского князя мордовским послам о преимуществах католической веры и главенстве в этом вопросе папы римского представляются явным вымыслом. Тем более что идеологизированный подтекст этого сообщения бросается в глаза — оно записывалось в Риме монахом Рихардом и предназначалось для папы Григория IX, который был ревностным сторонником идеи возвышения папской власти. Однако отбросив этот момент, можно выделить в сообщении и зерно истины, заключающееся, по всей видимости, в отзвуке реальных отношений между мордвой и Владимиро-Суздальской Русью, которую Юлиан называл «Великой Ландемерией». Косвенным свидетельством наличия мордовского посольства к князьям Владимиро-Суздальской Руси может служить указание русского летописца на вассальные отношения Пуреша, которого многие исследователи считают мокшанским князем (оцязором), и владимиро-суздальского князя Юрия: «...пришед был на Пуреша ротника Юргева». Кроме того, в XII—XIII веках оформилась древнемордовская государственность и ее руководители не могли не видеть стабилизирующей силы Православия, его идей и воззрений как надежнейшей духовной опоры строя и общества.
Однако, несмотря на наличие определенных условий, в XIII веке обращения мордвы в христианство не произошло. Помешало монгольское нашествие, «Батыев погром» и алчность русских князей. В 1221 году на мордовских землях был основан Нижний Новгород, практически одновременно возник Богородицкий монастырь — первая православная обитель в мордовском крае. Князья использовали крепость как опорную базу для набегов на мордовские селения, что вызвало немедленно ответную реакцию. В 1229 году инязор Пургас осадил Нижний Новгород, но взять город ему не удалось. Монастырь при осаде был сожжен. Вероятно, мордва восприняла его как элемент политики русских князей.
На процесс обретения мордовским народом Православия существенное воздействие оказали отношения русских государственных структур и Церкви, одинаково драматичные для обеих сторон. Государство стремилось превратить Церковь в орудие своей политики, в придаток государственного аппарата, что не всегда совпадало с духовными устремлениями Церкви, ее пастырским служением. Тем не менее, именно государственные структуры определили на некоторое время основы проникновения христианства в мордовский край. В XIV—XVI веках это осуществлялось путем пожалования русскими князьями земель в мордовском рае. Так, нижегородский князь Борис Константинович подарил Благовещенскому монастырю в Нижнем Новгороде «рыбные ловли» по Суре со всеми «падучими реками» и «бобровыми гонами». А в Арзамасском уезде по указу Ивана Грозного вотчины мордовских князей было велено «раздать боярам в раздачу для крещения мордвы».
Очагами проникновения Православия в мордовский край стали монастыри, история возникновения которых в крае уходит корнями еще в XVI век. В 1573 году на правом берегу Цны был основан Щацкий Чернеев Николаевский монастырь. Практически в том же году как ответвление Звенигородского Савва-Сторожевского монастыря возник Пурдошский монастырь. Блестящий знаток истории мордовского края П. И. Мельников писал: «...иноки Савва-Сторожевского монастыря устроили миссионерский стан на берегу реки Мокши для крещения темниковской, или еникеевской, мордвы; из этого стана вскоре образовался Пурдышевский Рождественский монастырь...»
В 1652 году на земле, полученной в качестве вклада от зажиточного крестьянина Путилы Баженова Дмитриева из села Дмитриев Усад, монах Дионисий основал Краснослободский Спасо-Преображенский монастырь. Аналогична история возникновения и другого монастыря на берегу Мокши — Санаксарского. В 1659 году подьячий темниковской приказной избы Лука Евсюков передал небольшой участок земли монахам, ушедшим из захудалого Кадомского монастыря, и здесь было положено начало знаменитой обители.
В разное время в середине и во второй половине XVII столетия были основаны монастыри Иоанна Предтечи и Покровский в Краснослободске, Тумольская Преображенская мужская пустынь и Печерская женская обитель в Инсарском уезде, Атемарский Воскресенский, Богородицкий, Ильинский-Богоявленский мужские, Богородицкий женский монастыри в Саранском уезде.
В монастырях появились иноки — мокшане и эрзяне по национальности. Так, сохранился документ, позволяющий установить национальность монахов Саровской пустыни. Судя по нему, из мордвы происходило шесть человек — фактически это первые, известные нам, монашествующие. Монах Иуст (в миру Иоанн Коробейников) — в обители с 1708 года, пришел при Иоанне и был им пострижен; в монастыре занимался «рукоделием» — лапти плел и свечи делал. Монах Исайя (в миру Илья Плакидин) и монах Антоний (в миру Афанасий Плакидин) приняли постриг в 1731 году; последний стал монастырским звонарем. Из деревни Нороватовой Кадомского уезда был родом монах Никодим (в миру Никифор Чеканка), а из села Воскресенского Арзамасского уезда происходил монах Иларион (в миру Иоанн Плакидин), принятые в обитель в том же 1731 году. Монах Иларион, несмотря на солидный возраст —74 года, стал находкой для монастыря из-за своего плотницкого таланта.
Государство стремилось ускорить привнесение Православия в мордовский край, применяя силовые методы, что вызвало негативную реакцию мордовских крестьян. В песнях о крещении указывалось, что в христианской вере «толку нет», подчеркивалась необходимость отстаивать «мордовскую веру», «мордовские законы». В устно-поэтическом творчестве мордовского народа сложились образы Мамильки, Сырявы и др., которые противостоят христианству и страдают за это. В ряде случаев глухое брожение переходило в открытую борьбу. В начале XVII века алатырская мордва дважды топила в Суре игуменов Троицкого монастыря, в 1655 году был убит архиепископ Рязанский Мисаил. В период гражданской войны 1670—1671 годов восстание в мордовских деревнях, чаще всего, начиналось с убийства священника.
Сопротивление христианизации, оказанное мордвой, заставило правительство внести коррективы в политику. В 1681 году был подписан указ о предоставлении льгот мордве в случае крещения, в 1686 году вышел указ об особом внимании епархиальных архиереев и монастырских властей к новокрещенной мордве. Эти изменения привели к некоторому ускорению принятия Православия мордвой. Стали ощущаться и положительные моменты этого процесса. Наиболее важным было то, что принятие Православия в условиях, когда оно считалось государственной религией, означало социально правовое уравнивание мордвы с русским населением. Мордовские крестьяне стали чувствовать себя в рамках Российского государства более комфортно, если, конечно, можно говорить о комфортности применительно к той эпохе. Появилась возможность поступления части мордвы на престижную и достаточно обеспеченную государственную службу, чем немедленно воспользовались представители мордовской знати. Облегчились различного рода контакты, прежде всего экономические, между мордвой и русскими.
Массовая христианизация мордвы падает на имперский период российской истории. Еще в начале XVIII в. Филипп фон Страленберг, шведский офицер, попавший в российский плен под Полтавой, отмечал полное преобладание языческих верований в мордовской среде. Тогда же были предприняты первые шаги по их искоренению, когда по указу Петра I в 1700 г. в Киевской духовной академии была начата подготовка миссионеров для распространения христианства для мордовских крестьян. В 1706 г. следующим указом Петр I потребовал ускорить процесс христианизации. Причем стоит отметить мотив религиозной нетерпимости и фанатизма при ее проведении, который присутствует, по мнению Андреаса Каппелера, даже у русского просветителя XVIII в. Ивана Посошкова.
В начале XVIII столетия церковь почти полностью взяла под свой контроль процесс принятия Православия мордвой, государственные структуры как бы отошли на второй план. Стали создаваться миссионерские школы, началось использование мордовских языков для внедрения Православия в мордовскую среду. Наиболее ярко это проявилось в деятельности епископа Нижегородского и Алатырского Иоанна Дамаскина. В то же время имелись рецидивы силовых методов, вызвавшие, в частности, восстание мордвы Терюшевской волости в 1743—1745 годах, непосредственным поводом к которому послужила попытка епископа Нижегородского и Алатырского Дмитрия Сеченова разрушить мордовское кладбище у села Сарлей.
Восстание оказало существенное воздействие на политику империи по отношению к мордве, правительство фактически отказалось от силового давления и обратилось к ориентации на мирное привнесение православия в край. Для стимулирования процесса присоединения к православию были существенно увеличены льготы новокрещеным. За согласие креститься предоставлялись льготы в государственных сборах на три года, освобождение от рекрутской повинности и наказания за некоторые преступления, а также материальное вознаграждение. Стали ощущаться положительные для мордвы моменты принятия новой религии. Наиболее важным было то, что принятие православной веры в условиях, когда она считалась государственной религией, означало социально-правовое уравнивание мордвы с русским населением. Неслучайно с 1740 по 1762 год православие приняло 67 580 человек из мордвы (около 70 % от общей численности). Именно эти годы финский исследователь Уно Харва-Холмберг выделяет в качестве периода массового обращения мордвы в христианство. Однако при этом следует иметь в виду элемент формальности, подмеченный еще церковным историком Аполлоном Можаровским: «...Проповедники, к сожалению, большею частью и ограничивались ...легким способом обращения, не вменяя себе в обязанность — возбуждать в сердцах и мыслях новокрещеных живую и искреннюю веру в Христа и научать христианству».
Именно в результате деятельности Православной Церкви в середине 18 века произошло массовое обращение мордвы в христианство. С 1740 по 1762 год Православие приняло 67580 человек из мордвы.
Закрепление Православия в мордовской среде падает на вторую половину XVIII— начало XIX веков, когда оно проникло в быт, стало составной частью уклада. Произошли изменения в повседневной жизни, обрядах (икона стала принадлежностью жилья и целого ряда обрядов, на кладбищах вместо срубов стали ставиться кресты и т. п.). Наконец, трансформировалось мировоззрение мордвы (внедрение идеи творения мира Богом, совмещение языческих представлений о загробном мире с христианскими представлениями о рае и аде и т. п.). Сложился мордовский вариант православия, достаточно четко охарактеризованный Василием Ключевским как двоеверие. Его реальным проявлением можно считать взгляды руководителя движения терюшев-ских крестьян 1809 г. Кузьмы Алексеева и его сторонников, которые включали в себя помимо элементов древней мордовской веры образы и идеи христианства (Богородица, Николай Чудотворец, архангел Михаил). Идеи подобного характера возникали также и среди других народов. По всей видимости, в то время они могли служить единственно возможной формой этнической идеологии.
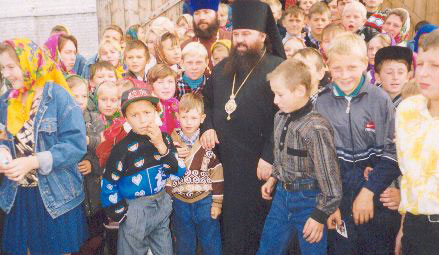
В XIX в. с целью укоренения христианства в мордовской среде имперские структуры проводили активную политику просвещения на основе православия. С этой целью на мокшанский и эрзянский языки переводились религиозные тексты, создавалась обширная учебная литература. Логическим завершением данной тенденции можно считать систему, предложенную одним из выдающихся миссионеров своего времени Николаем Ильминским. В 1871 г. он констатировал: «...Инородцы не знают христианства, они не только не имеют понятия о догматах, о священном писании, но не знают даже самых главных событий священной истории». С целью ликвидировать данное положение им было предложено активно использовать национальные языки. По мнению Николая Ильминского, дети инородцев, в том числе мордвы, должны сначала получать наставления на своем родном языке от местных учителей с использованием букварей, учебников, религиозной литературы, составленных на национальных языках. Стоит согласиться с оценкой Изабель Крейндлер, считавшей язык основной характеристикой его миссионерской деятельности. Сам Николай Ильминский по этому поводу писал: «Религиозное движение сердца несравненно сильнее и глубже возбуждается, когда христианские истины слышатся инородцами на языке родном, нежели на русском, хотя бы последний и был для них знаком в некоторой степени. Это потому, что родной язык непосредственно говорит и уму, и сердцу. Как скоро в инородцах утвердились посредством родного языка христианские понятия и правила, они охотно и с успехом занимаются и русским языком, и ищут русского образования».
Христианизация мордвы способствовала ее дальнейшей интеграции в имперские структуры, ее идеологической адаптации и возрастанию уровня комфортности существования в рамках империи. К концу XIX в. она была фактически завершена. По переписи 1897 г. 98,9% мордовского населения империи были православными, лишь 1,1% был зафиксирован как старообрядцы, лютеран, мусульман, язычников среди него не было.
Миссионерская политика привела к формированию религиозной интеллигенции из мордвы, которая использовала поддержку государства, преимущества образования и знание русского языка для артикуляции этнических интересов и для развития этнического сознания. Первые мордовские просветители, педагоги и ученые вышли из этой среды (Авксентий /Арсений/ Юр-тов, Николай Барсов, Макар Евсевьев). Принятие православия потребовало от них не только отказа от многих национальных обычаев, перемены образа жизни, но признания русского духовного превосходства. Однако их нельзя рассматривать как пассивный объект русификаторской политики. Они выбрали, по терминологии профессора П. Верта, «оговоренную ассимиляцию» (negotiated assimilation) - форму интеграции в русский мир, предусматривающую возможность сочетания православия и русского «просвещения» с национальными традициями и образом жизни, с сохранением этнического своеобразия. Для них был свойственен национализм, однако он не был универсальным и воспринимал нацию как ценность, подчиненную другим, более универсальным ценностям. В этом смысле он отличается от национализма XX в., носящего агрессивный и ограниченный характер, абсолютизирующего нацию как высшую ценность. Мордовская интеллигенция восприняла значительную часть идей Николая Ильминского и пыталась реализовать их в жизнь. Они стремились создать культуру национальную по форме и православную по содержанию. При этом оформлялись объективно элементы, ведущие к нивелировке культурных различий, определился процесс аккультурации мордовского этноса.
Таким образом, Православие имеет глубокие исторические корни в мордовском крае. Оно срослось с душой мордовского народа, составляет одну из основ его творческого потенциала. Поэтому призывы отказаться от Православия в современных условиях, которые раздаются из уст незначительной частички национальной интеллигенции, означают в перспективе свертывание потенциала мордовского народа.
2021 Официальный сайт Саранской епархии
